EjWikiProject:Книги/Возрождение еврейской жизни в СССР
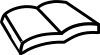
|
Это сохранённая коллекцияСправка |
| [ загрузить коллекцию ] [ PDF ] |
Возрождение еврейской жизни в СССР
Авторские материалы о еврейской жизни в СССР
Московский еврейский детский сад
30 Dec 2009
Рассказ Марии Брагинской о еврейском детском садике в Москве в годы застоя (интервью Эрлены Матлиной)
Я начала работать в еврейском садике в 16 лет. Директором была Ира Гинис.. Я 1964 года рождения, значит, это было в 1980-м. Садик только открылся. Это был еврейский садик на станции "Ботанический сад", на 13 этаже, в новой 3-комнатной квартире.
Э.М. Чья была квартира?
М. Мы ее снимали. Я хочу еще рассказать до того, как я с ними познакомилась. А познакомилась я через свою учительницу рисования Светлану Юрьевну, которая за год этого, когда мне было еще 15 или 14,5 лет, пригласила меня и маму приехать на ее урок рисования. Она вела его на даче в Быково. И там были Цирлины. И вот, когда я туда приехала, на меня сразу произвело впечатление, как Светлана Юрьевна вела уроки рисования для детей. Она очень здорово объясняла родителям, какие картины более живописные, почему они ей больше нравятся, хоть портрет и не похож. Когда я пришла с мамой, мама была в шали. И она сказала маме сесть и попозировать им, потому что они рисовали натуру. И эти дети, лет пяти-шести, рисовали гуашью, смешивая белила…
Э.М. Это был еврейский садик?
М. Да, еврейский садик в Быково. Часть отказники, а часть – просто люди, которые интересовались еврейством. После этого мы поехали все вместе в Прибалтику.
Э.М. Это было летом?
М. Да, летом. Так как мы были в отказе, то мама не работала и сказала Цирлиной, что хочет работать воспитательницей. Но они сказали: "Лучше мы Машку возьмем". Потому что они увидели, что у меня есть подход к детям. И этим я их как-то сразу обрадовала.
После этого была еще одна встреча, на Пурим. Паперный делал с детьми Пурим-шпиль. Замечательный Пурим-шпиль, он вместе с детьми сшил огромного Амана. Это была кукла величиной в три человеческих роста. Или в три детских роста. Совершенно гигантская. А в конце ее, соответственно, нужно было вешать. Все девочки хотели быть Эстер. И я думала: что же будет? Там был такой Марик Юзефович, в которого все были влюблены. И так как он играл Ахашвероша, то все девочки хотели быть Эстер. И они настолько были в него влюблены, что даже царапали друг другу лица когтями. И разрешили им всем быть Эстер. Это был такой Пурим-шпиль именно для детей, там все девочки играли Эстер, и это меня совершенно порадовало. А Светлана Юрьевна сказала мне, чтобы я украсила сцену. Она мне дала картинку из Агады (это была голландская Агада), где идет шут и трубит в рог. И я должна была нарисовать ее большого размера и повесить эту картинку. Для меня это тоже было важным мероприятием. Во-первых, я как художник, а во-вторых – то, что я принимаю участие в таком совершенно свободном, совершенно ином, чем было у нас в обычных садах, действии.
После этого, в начале следующего года, Ринка пошла в обычный сад. Потому что мама решила, что слишком долго ехать в еврейский, с двумя пересадками. Но в обычном саду Рина сидела в углу и плакала. И после трех месяцев я сказала, что ни за что не согласна, чтобы ее туда водили. И что мы начинаем новую жизнь. И я сама буду работать в этом садике. Мама устроилась туда готовить, несколько дней в неделю, или даже один день. Так как она поняла, что у нее нет воспитательского таланта, то решила стать поварихой. А готовить мама хорошо умеет. Не то что бы она это очень любит, но она умеет. Она всегда делала там вкусные супы. Когда я первый раз пришла, там были две воспитательницы. Одна – Ханка Магарик и другая – еще кто-то. Хана Магарик – это дочка Володи Магарика.
Но когда они меня увидели, то очень растерялись. Они решили, что я совершенно не пригодна: какая-то девочка, почти как эти дети, пришла вдруг с ними работать. Все остальные, кроме Ханки, были уже мамами. Светлана Юрьевна учила их, как можно творчески обращаться с детьми. Она учила каждого делать что-то, что другие не умеют. Одна женщина умела водить хоровод, больше она ничего не умела. Так она сказала: "Хорошо, ты будешь с ними петь и водить хоровод". Человек чувствовал себя легче, и начинал справляться. В то время там было примерно 12 детей. И еще была такая постройка кровати, которая использовалась то как стол, (внизу был шкаф), а то как кровать.
И вот, когда я пришла, они сказали между собой: "Ну что мы с ней будем делать? Давай пошлем ее за лекарствами, у кого-то голова болит". И я поняла, что если сейчас не сделаю какого-то шага, то всегда буду на побегушках. У меня был такой красивый синий свитер, я сняла его, повесила на стул и пошла играть с детьми. И сказала: "За лекарствами побежит кто-нибудь другой". И сразу пошла к детям. Я придумала с ними игру в зоопарк. Ринка до сих пор больше всего помнит эту игру. Там лежали коробки, в которых хранились матрасы. Я сказала, что это будут разные клетки, и кто хочет быть каким зверем. Дети очень обрадовались, мы вытащили оттуда матрасы и стали играть. И все тут же поняли, что я могу быть воспитателем. И наоборот, стали на меня сваливать всех детей. Но я не возражала, потому что это была моя мечта. Я с пяти лет мечтала заниматься с детьми. Еще когда я сама была в саду и как-то страдала, я придумывала, что нужно сделать, чтобы там было интересно.
А потом я пробовала разные педагогические системы с моей двоюродной сестрой Светкой. Мне было семь лет, а ей два года. Я ее учила прыгать со стула, залезать на стол. Я считала, что детей нужно учить всяким вещам, которым их не учат, например учить смелости. Или нужно их учить хранить секреты. Например, мы с ней мечтаем уехать в Израиль, но об этом не нужно никому рассказывать. Мы со Светкой ходили в поход, чтобы построить плот, и решили тренироваться, чтобы уехать в Израиль. Чтобы доехать до моря и уплыть в Израиль. Ей тогда было четыре года, а мне девять. Мы ушли, нас искали. А я говорила: "Светка, ты не говори, ты просто скажи, что мы были с другой стороны дома". И Светка, так как она знала, что мы должны скрывать нашу главную тайну, что мы убегаем в Израиль, – то, когда мы пришли, и мама сказала: "Вас не было три часа, где вы были?" – ответила: "Мы были с другой стороны дома". И мама чуть не плакала: "Как так с другой? Я обежала вокруг дома десять раз, я везде вас искала!" А Светка говорила (это я так ее научила): "Когда ты была с первой стороны, мы были с другой…" Мне даже было жалко свою тетю и мою маму. И я им потом сказала, что мы учились убегать в Израиль. Я не объясняла, куда, но я поняла, что они не могли в этот абсурд поверить. Но Светка, которая училась быть настоящим героем и хранить секреты, мужественно хранила секрет. Я также научила ее читать, когда ей было три с половиной года. Мы с ней вместе рисовали картинку, а потом писали текст. Мы придумали сказку, как волк напал на Светку и хотел съесть ее пятки. Но она закопала их в песок, и он не смог до них добраться.
Светка сейчас живет в Москве. Она ездит в Африку ухаживать за бедными и больными детьми. Есть такая программа – помогать бедным детям в Африке, и она раз в год ездит туда добровольцем. И она мне как-то рассказала: "Я не знала, что с ними делать. И вдруг я вспомнила, как ты со мной рисовала сказки. И стала с ними тоже рисовать сказки". Так что эти вещи пригождаются…
В садике, когда я начала работать, мне ужасно понравилось, что такая творческая обстановка. С одной стороны, еврейская, а с другой – все что-то придумывают, и можно делать, что хочешь. Нет таких жестких рамок, которые где-то были. Но что мне не понравилось с самого начала, что мне сделали маленькую зарплату. Сказали, что я – помощник воспитателя. И я все приставала к Светлане Юрьевне: "Как же я помощник, когда я больше других занимаюсь с детьми?" Она мне отвечала: "У них есть ответственность, а у тебя нет". Я спрашивала: "Что такое ответственность? Это какая-то выдумка", я до сегодняшнего дня не знаю, что это такое.
Там был один мальчик с очень большими проблемами. Его папа был религиозным, а мама – нет. И у него был какой-то внутренний протест против всего. Например, когда мы садились кушать, то перед едой делали "нетилат ядаим" и говорили браху "моце лехем". Он брал кипу и кидал в суп. Воспитатели пытались с ним воевать, а он только вредничал и опять делал такие штучки. И Светлана Юрьевна сказала, чтобы его оставили в покое и с ним не воевали, и она попробует его вытащить. Что ему нужно сначала понять, где он находится, а уже потом запирать его во всякие рамки. И она дала ему рисовать. Он ничего не мог нарисовать. Он сказал, что папа с ним рисует и контролирует каждый его шаг, когда он рисует. И поэтому он ничего не мог рисовать. А Светлана Юрьевна показывала ему, как смешивают краски, чтобы он как-то увлекся. И вдруг один раз он смешал голубую и синюю с белым, и весь лист закрасил голубым цветом. Потом он чуть-чуть подумал и в конце нарисовал какой-то хвостик. Она его спросила, что это значит. Он сказал, что это самолетик, он уже улетел. Она обрадовалась, и после этого он стал лучше. Вначале у него, правда, был бурный период, он почему-то начал всех колотить. Светлана Юрьевна сказала, что это должно пройти, что у него агрессия, которая была спрятана внутри, а сейчас выходит. И молодцы воспитательницы, у них было достаточно терпения, чтобы подождать, когда эта агрессия выйдет и уляжется. И он после этого стал очень хорошим. Они вместе с Буськой Юзефович играли в царицу. Мирьям, а в садике ее все звали Буся. Она вообще была потрясающим ребенком с чувством ответственности и справедливости. Она пришла, когда ей было четыре с половиной года, а Элашке, ее младшей сестре, два с половиной года. И она за ней смотрела, заботилась, веселила. Вообще все делала потрясающе.
Сейчас я забегу вперед. Когда пришли гебешники, то я поняла, что мы сейчас будет делать "нетилат ядаим", а нам нельзя это делать, потому что тогда они нас поймают, что мы ведем религиозное воспитание. Это была тогда страшная вещь. Но если мы не будем делать, то маленькие дети не поймут и начнут кричать: "Где же "нетилат ядаим"?" И тогда я сказала: "Буська, скажи всем малышам, что сегодня особенный день, едим без "нетилат ядаим". И она пошла и тихонько им это сказала. И когда мы сели за стол, все было спокойно, никто из них не поднял никакого вопля. Она вообще молодец, с такой взрослой душой. Но в то же время, хоть она и была взрослая, в ней была такая детская радость, вполне нормальная. И когда они играли в ролевые игры, то она и еще один мальчик, Илюша (кажется, его фамилия Якобсон, они потом получили разрешение на выезд в Израиль), были такой парой. Всем говорили, что делать. Они были царь и царица, которые давали указы. И дети, вполне мелкие, очень любили эти указы. Потому что они были справедливые. И им очень нравилась эта игра.
Илюше, когда он пришел, вначале было очень трудно. Там же дети были одни, без родителей. У некоторых родители работали по нескольку дней. Их привозили, а в четверг вечером увозили. Они там спали, у них были всякие уроки. Но все равно детям трудно, когда их так надолго привозят. И когда этот Илюша там оказался, он ни за что не хотел там быть. Он вцепился в свою маму и сказал: "Ты меня вечером заберешь". Она ему сказала: "Хорошо, я тебе обещаю, что вечером приеду и тебя заберу". А вечером мы показывали им диафильмы. Это было очень здорово, потому что читаешь своим голосом. В этом есть что-то такое, даже лучше, чем мультфильмы. И вот пришел вечер, а он ходит туда-сюда и ждет, когда же приедет мама. И спрашивал: "Когда же приедет мама?" Я говорю: "Она приедет через четыре дня". Ну нельзя так ребенка обманывать". Они мне говорят: "Ты с ума сошла!" А там не было телефона". Я говорю: "Я пойду на улицу, позвоню и попрошу, чтобы за ним приехали". И пошла на улицу звонить. Я позвонила его дедушке, а он говорит: "Никто за ним не приедет". Я говорю: "Скажите мне ваш адрес, и я сама вам его привезу. Я не могу, чтобы ребенка с самого начала у нас так обманули. Какое у него будет тогда еврейское воспитание!" Они мне говорили, что я с ума сошла, что только потому, что я сама, как ребенок, я так себя веду. Он жил далеко, где-то на Юго-Западе. И я взяла его, и мы поехали. Мы ехали, а вагоны были уже почти пустые. Мне сказали, что я должна потом вернуться обратно, потому что нужно, чтобы два человека ночевали с детьми: если что-то случается, чтобы один мог пойти на улицу позвонить, а второй остался с детьми.
И действительно, я его привезла, и он был так благодарен, что после этого стал очень хорошо себя чувствовать, стал очень активным, вполне нормальным ребенком. В том же году они получили разрешение и уехали. Тогда многие получали разрешение. Был такой мальчик Фридик, очень симпатичный. Вообще, детей с идишскими именами почти не бывает, он был единственный такой. И он отличался тем, что, когда пели детские песни, он их терпеть не мог. Зато он любил хасидские песни. Он ходил сам в коридор и пел: "Шма Исраэль Ха-Шем Элокейну…" Таким тонким, трагическим голосом. Хотя он был там всего месяц или два, он мне очень запомнился. Я даже нарисовала рисунок фокусника, который показывает ребенку фокус, а он смотрит в другую сторону.
Еще там была чудная девочка Алиса. Маму ее звали Рита, она была очень симпатичная воспитательница, а девочку – Алиса. Она тоже воспринимала все с нежностью и радостью. Почему я вспоминаю про этих детей? Потому что они вскоре уехали, и всех, кого мы знаем, мы видим в Израиле. А те уехали почему-то, в основном, в Америку. Или, может быть, кто-то уехал в Израиль, а связь с ними пропала. Вот это немножко жалко. Конечно, была семья Юзефовичей. Но Марик уже подрос, и были только Буся и Элашка. И вот нам привезли иностранцы какие-то конфетки с симпатичными мордочками на палочках. Мы всем детям раздали эти конфеты, но они были какие-то очень химические. И вдруг Элашка начала задыхаться. А мы были с Ритой, мамой Алисы. Я говорю: "что делать?" У нее совершенно распухло лицо. Рита говорит: "Нужно срочно в ванну ее посадить, у нее ложный круп". Мы бежим в ванну, а там все завалено кубиками. Потому что у нас были замечательные уроки геометрии, не просто математики, а геометрии для детей. И нам было велено все кубики раскрасить: одну грань гладкую, а другую из двух треугольников, чтобы дети могли составлять всякие геометрические фигуры. И вот у нас там лежат эти кубики и сохнут в ванной. Не понятно, что делать. Но, к счастью, у нас было много пластмассовых горшков. Мы налили в них горячую воду, в два горшка положили ей ноги, в два – руки. И еще я давала ей горячее молоко потихоньку. И у нее прошло, дыхание выровнялось.
Э.М. Как это вы догадались?
М. Рита сказала, что нужна горячая вода с паром, и это поможет. Этого ведь никто не ожидал. Там были обычные лекарства, йод. Но никто не подумал, что эти конфеты вызовут такую реакцию. Но, кроме этих конфет, привозили много хороших вещей. Отличные игры, например, которых тогда в Москве не было. Например, одна игра – составлять из яйца петуха. Там были карточки, из трех карточек было составлено яйцо. Их нужно было менять, пока не получался цыпленок, а потом петух. Они были все остроумные. Была игра "дроби", пластмассовый круг из разноцветных сегментов. И Ринка, хоть она была маленькая, знала, что такое дроби. На уроках геометрии делили пирог. Там был математик, который занимался с ними. Он велел какой-нибудь маме испечь большой пирог, и потом думали, сколько детей, и как правильно делить этот пирог. Хватит ли его, если делить пополам, потом на четвертушки. Мы гордились, что наши дети, когда им говорили, что будет урок, были в восторге. Другие дети, когда им говорят, что будет урок, прячутся. А наши дети, наоборот, спрашивают, почему он быстро кончился и когда будет еще урок.
Время от времени с ними работал Володя Магарик, папа Алеши Магарика. У него было хорошее чувство юмора, и он придумывал всякие стихи для детей. Он был человек немного безумного нрава. Он тоже, как и я, считал, что детей нужно учить смелости. Но был куда более радикальным. Район наш был еще необустроенный, и мы ходили зимой гулять туда, где были какие-то одинокие деревья среди снега, какие-то одинокие пространства. И вот он там находил горку и скидывал с детей шубы: в движении нельзя запариться, а надо быть ловким. И он вместе с ними на ногах с этой горки катался. Я говорила: "Володя, вы упадете, и вы себе нос разобьете, и дети". А он говорил: "Дети должны быть смелые, это наши разбойнички". Он там работал не очень много. Потом он уехал. Но в том году еще работал.
И вдруг в какой-то момент Ира Гинис нас собирает и говорит, что в другой сад, сад Эссаса, приходили гебешники. И спросила, готовы ли мы продолжать, потому что это становится опасно. В том саду, где были гебешники, все были очень травмированы их приходом и брутальным поведением. И я, и все другие сказали, что хотят продолжать. Ира надеялась, что все испугаются, потому что она сама была напугана этим рассказом и беспокоилась за детей. Но никто не испугался: ни отказники, ни те, кто были далеки от отказа, ни евреи, ни их нееврейские половины. Абсолютно все решили продолжать, и мы продолжали дальше.
Примерно в это время я познакомилась с Наташей Симанович, женой Пети Полонского, и мы с ней очень подружились. Мне платили маленькую зарплату, и меня это очень раздражало. Не потому, что мне хотелось большую зарплату, а потому, что это было несправедливое отношение. И я ей сказала: "Наташа, давай создадим свой сад". Тем более, что она была вдова с двумя маленькими детьми, а ее дочка Анька была ровесницей моей Ринки, им обеим было по пять с половиной лет. И Наташа сказала: "Да". Я спросила: "А что мы будем делать? Ты мне разрешишь?.." И она ответила: "Я тебе разрешу все". Я сказала: "Когда будет Пурим, я хочу делать декорации, может быть, мы даже будем рисовать на стенах". Она сказала: "Прекрасно, разрисуй мне все обои, я буду только рада".
Тем временем, настал Ту Бишват. А когда была Ханука, мы устроили один вечер. Я увидела, что очень много ханукальных свечек, которые нам принесли иностранцы, остаются. Я спросила у родителей, и оказалось, что многие вообще никогда не праздновали Хануку. И тогда я взяла целлофановые пакеты и стала складывать все оставшиеся свечки и раздавать их: кому на два дня, кому-то на один день. Кому-то на четвертую свечку, кому-то на пятую. Чтобы они могли хотя бы один день у себя сделать Хануку. И потом ко мне подошла Ира Гинис, очень сердитая, и спросила, почему я раздала все свечки, которые они запасли на следующий год. Я сказала, что до следующего года еще могут прийти гебешники и нас всех разогнать. А кроме того, говорю, сейчас есть люди, которые тоже хотят праздновать, а в следующем что-нибудь еще будет. И к счастью, гебешники не пришли, зато приехали иностранцы и привезли еще свечей.
Э.М. То есть Ира Гинис была строгий директор?
М. Да. Но, в то же время, она всех удерживала в равновесии, очень разную публику. И очень интеллигентных, и менее интеллигентных. И людей, которые хотели прямо уехать в Израиль, и тех, которые думали об Америке. И всех она удерживала как-то вполне хорошо.
Но вот настал Ту Бишват. И я поняла, что дети совершенно не чувствуют никакого праздника. Все заснежено, кругом тощие деревья за окном. А мы в вате выращиваем фасоль. Но эта фасоль у нас немного загнила, и никакой радости в этих зеленых ростках мы не увидели. И тогда я придумала. Там в одной комнате были двухэтажные кровати, а в другой – наши кровати и столы. Я собрала их там, где были двухэтажные кровати, и сказала: "Дети, сегодня у нас особенный день, это наш праздник – Новый год деревьев. Никто не спит днем, все залезают на второй этаж на кроватях". Я принесла им большие мелки и сказала: "Сейчас мы нарисуем на стене три большие картины, и это будет наш праздник Ту Бишват". И мы нарисовали две картины. Одну – корзину с фруктами, вторую – дерево. Вторая картина вышла очень удачно: дерево с фруктами, а вокруг него танцуют маленькие человечки.
Э.М. А кто рисовал?
М. Дети. Я их направляла, а рисовали они. Я им подсказывала кое-какие моменты, но они сами очень здорово это делали. Так живо, и так они были счастливы: что они не спят и рисуют на стене. То есть делают то, что обычно нельзя. И тут прибежала какая-то воспитательница и стала на меня дико кричать: что эта квартира – съемная, что эти мелки не отойдут. Что я делаю, это какой-то ужас и кошмар я наделала! Но Всевышний меня за это наградил, потому что в Ту Бишват мы приехали в Израиль. Так что этот праздник мне не забылся. За то, что я детям устроила такое чудо, мне тоже было устроено чудо.
Э.М. А как же вы выкрутились?
М. Наверное, заплатили маляру или наклеили новые обои. Просто я устала, что они не принимают мои идеи. Некоторые мои идеи, которые оказались наиболее удачными, они принимали с трудом. Хотя в одном они были правы. Например, как-то у нас не работал лифт. А мы жили на 13 этаже. И пойти с детьми гулять, особенно с небольшими, а потом подниматься на 13 этаж – это кошмар. И я придумала им историю, я вообще люблю придумывать всякие истории. Я придумала им замок, в котором есть винтовая лестница. И вот какая-то девочка идет по этой лестнице, она боится, что там прячутся какие-то чудовища. Я им рассказывала эту историю, и они были так увлечены, что шли эти тринадцать этажей, совершенно не замечая. Но там была такая девочка – Полина Штерн, дочка покойного Юры Штерна. И через несколько дней после этого Юра Штерн позвонил, что там есть молодая воспитательница, которую нужно срочно уволить. Потому что она рассказала какую-то сказку, после которой моя дочь уже несколько дней боится засыпать. Про какую-то страшную винтовую лестницу, что-то страшное и удивительное. Иногда я Светке тоже рассказывала; меня с ней оставляли, чтобы я уложила ее днем спать, и я ей рассказывала сказки. И иногда я рассказывала такую сказку, что потом ее мама жаловалась, вечером, что она не может заснуть. Я поняла, что у меня некоторые фантазии, которые дети воспринимают на ура, но нужно проявлять с детьми осторожность. И я пообещала им больше не рассказывать детям страшные сказки. Пообещала воспитателям быть осторожнее.
У меня уже в Израиле была очень интересная история насчет сказки. В Израиле, когда мы как-то были с маленьким Шмуликом и Рути Яглом в Музеон Исраэль в Иерусалиме, я тоже стала рассказывать страшную сказку про героя, который идет в лес, и там страшно, но он все равно идет вперед. И мы вышли из музея, и дальше должны были пойти к Ягломам. И мне Элка, мама Рути, сказала – идти наискосок, через Кнессет. Я увидела, что в заборе Кнессета есть дырка, и подумала, что она имела в виду, что надо идти через эту дырку. И так как у нас в сказке герой шел между двух деревьев и пробирался вперед, то тут эта дырка была тоже, как небольшое пространство, через которое прошел наш герой. Он шел вперед и наткнулся на камень, где было написано: "Тебя ждет большая опасность". Но он все равно пошел вперед. И мы тоже с Рути и Шмуликом полезли вверх по каким-то большим ступенькам вперед. И вдруг Рути говорит: "Вон там детская площадка перед нами". И я увидела такие небольшие домики, которые бывали на каких-то советских площадках. Я двинулась с ними туда, и вдруг вижу – у меня над головой тянется какая-то цепочка. Я думаю – что же это? И вдруг все эти домики задвигались, и я поняла, что это – собачьи будки. Собак, которые охраняют Кнессет. И я вцепилась в руки Шмулику и Рути, потому что один из них хотел просто упасть от ужаса. Они увидели, что выходят собаки. Второй хотел просто убегать. Но я поняла, что если он начнет убегать, эти собаки его могут просто растерзать. Я схватила их за руки, и к нам подбежал огромный серый дог. Я видела, что у нас над головой идет эта цепочка, т.е. мы уже зашли. Мы, как наш герой в сказке, зашли в опасное место, сами того не заметив. Я думала: "Только бы нас заметили с этой башни…" Там такие сиреневые огни. Только бы нас увидели и спасли! Но никто нас не увидел. Я стою с детьми, а эта собака стоит спокойно около меня и не знает, что делать.
Тогда я подумала: раз она спокойно стоит, мне надо пятиться назад. И я беру этих и начинаю пятиться назад. Я с ними пячусь тихонько, шаг за шагом, а собака идет около нас, тоже тихонько. Пока пес не увидел, что его граница кончилась, и ему нас не достать. Но я была в таком напряжении из-за того, что я их медленно и спокойно вела, что дальше я бросилась сама убегать. А там же эти большие ступени, на которых кусты. Я даже оставила детей, и бросилась вниз головой с этих ступеней. Потому что я их раньше держала для того, чтобы они не убегали… Но, к счастью, у меня был "кисуй рош", берет на голове. И я упала в большой куст. Куст был мягкий, он весь развалился, и со мной ничего не случилось. После этого мы выбирались довольно долго. Я как-то пришла в себя, вернулась к детям, и мы потихоньку спускались вниз. И когда спустились, увидели, что кругом забор. Где была эта щель – непонятно. Я сказала: "Шмулик, я не могу лезть через этот забор. Вы сможете, там в некоторых местах эти прутья так, что вы пролезете". Рути сказала: "Я знаю, как дойти до дома, бежим домой". И тут Шмулик так уверенно сказал: "Пока ты не вылезешь, я никуда не уйду". Я говорю: "Шмулик, у меня нет сил, я совершенно замучилась от всей этой истории". Ему тогда было пять лет, и он сказал: "Нет, я никуда не побегу, и ты отсюда вылезешь. Как наш герой все прошел, и ты вылезешь". И он стал мне говорить, как держаться за дерево. Я говорю ему: "Шмулик, я сейчас зацеплюсь юбкой и полечу вниз головой". А он говорит: "Ты никуда не полетишь, будешь держаться за дерево и вылезешь". И я вылезла, как наш герой, и никуда не упала. Как сказки иногда переплетаются…
А потом я сказала Наташе: "Давай сделаем свой сад". И она мне сказала: "Да, я тоже хочу, чтобы у нас был свой собственный садик". Она узнала, что есть такой математик Петя Полонский, который готов учить математике детей. Кто-то будет учить математике, кто-то ивриту… Мы стали думать, где мы наберем детей. Она вспомнила, что сад Эссаса разогнали. И говорит: "Давай мы их детей возьмем".
Э.М. А что это за сад Эссаса?
М. Сад Ильи Эссаса, там было шесть детей к тому времени. Это организовала его жена, и там была его дочка. И вот эти шесть детей пришли к Наташе, и еще двое детей: это Аня и Ринка. И у нас получился такой маленький садик.
Э.М. А Маша тоже была?
М. Маша была уже постарше. Только когда я делала с детьми какую-то интересную вещь, она с нами рисовала или что-то еще. А так она уже ходила в школу. Но потом было так. Вдруг пришли какие-то рабочие что-то чинить, и они все были в комбинезонах. А Наташа жила на втором этаже. И дети решили, что они идут не в подъезд что-то чинить, а прямо к ним. И вдруг все дети из этого сада забились под стол. Они были просто в панике, думали, что это гебешники. Я спросила, почему они в такой дикой панике, почему они все сидят под столом. Они сказали, что когда пришли гебешники, у них были не обычные воспитательницы, как у нас, а были две пожилые женщины, которые еще при Сталине что-то пережили. И они выстроили всех детей в ряд, чтобы гебешники задавали им вопросы, а сами ушли. Они так перепугались, что оставили детей, а сами ушли. И тогда я про себя придумала такую молитву, что если к нам придут гебешники – в этот сад или в другой – я попрошу, чтобы я там была в этот день. Потому что я не оставлю детей, как эти тетки. Ведь это такое безумие – взять и оставить детей с какими-то грубыми мужиками, которые орут… И спрятаться. Потому что, когда взрослые прячутся, дети считают, что произошло уже что-то необратимое. У меня появилась такая молитва. И два раза, просто буквально было чудо, что я оказывалась на двух разгонах детского садика. Это было каждый раз чудо, потому что я в этот день не должна была там быть. Т.е. моя молитва была услышана.
После того как мы устроили этот сад у Наташи, он не был очень удачный. Потому что девочки были какие-то скучные и закомплексованные. Какие-то нетворческие. Хотя мальчики там были неплохие. А вскоре Наташа познакомилась с Петей, и они решили пожениться. Хотя мы успели сделать замечательный Пурим-шпиль. И, как Наташа и обещала, мы на обоях рисовали замечательные деревья в персидском саду.
Э.М. Но фотографий нет?
М. Нет, еще нет. Потому что первые три пленки все исчезли. На них все первые три праздника, которые Брусовани снимал, но они все испортились, и не удалось их проявить. Это был мой первый Пурим-шпиль, который я организовывала с детьми, и это был первый хороший опыт.
После того как Наташа вышла замуж, я вернулась обратно в "Ботанический сад". И мне обещали, что сделают меня воспитателем, а не каким-то помощником. Конечно, в следующем году я учила детей рисованию вместо Светланы Юрьевны, потому что она уже не могла. Может быть, я не делала это так хорошо, но все-таки у нас тоже были удачи. Я помню, как мы все рисовали птиц. Некоторые дети очень здорово рисовали на коричневой бумаге, достаточно красиво.
Мне было очень хорошо. Я училась в вечерней школе три раза в неделю, иногда один раз прогуливала, а два раза была в садике. Также я часто оставалась там ночевать с детьми. Это было самое трудное. Потому что ночью надо было вставать к маленьким, сажать их на горшок. Там было несколько маленьких детей, которым только-только исполнилось три года. Например, там была Юдя Хасина, у нее был такой басистый голос. Она говорила, как маленький мужичок, таким басистым голосом, и спала с пеленкой. К ней надо было ночью вставать, потому что если она проснется, то устроит ужасный рев. И утром было очень трудно вставать. Некоторые дети вставали очень рано, около шести. У нас был кофе, который мы пили с утра, и хасидские песни, которые я очень любила. Я их всегда себе ставила, и с ними вставала утром.
На Хануку была интересная вещь. Там была такая бабушка Чарна. Из Марьиной Рощи или большой синагоги, такая старушка. Ее специально приглашали на Хануку, потому что она могла натереть десять луковиц и не боялась за свои глаза. Никто не мог натереть столько луковиц и картошки для "латкес". А она спокойно стояла и терла, такая маленькая и круглая. Иногда она оставалась ночевать и спала в маленькой комнате. Как-то я пришла, и Ханка мне говорит: "Я не могу с ней спать, она во сне хохочет, очень радостно смеется. Мне так от этого страшно, ты можешь с ней спать?" Я очень обрадовалась, потому что, когда спишь с детьми в комнате, ты должен к ним время от времени вставать. Короче говоря, бабушка Чарна смеялась во сне. Думаю, что ей никто ничего не платил, она просто оставалась, чтобы готовить большие блюда. Она очень хорошо готовила, знала всякие еврейские блюда, которые наши мамы не знали.
И вот я перешла обратно в "Ботанический сад". Ира Гинис получила разрешение и уехала, и никто не хотел быть директором, потому что директор – это была бесплатная должность. Появились такие Гарбузы – Сара и ее муж, и они сказали, что готовы быть директорами. С самого начала даже мне было понятно, что это не подходит, потому что они были убежденные хабадники, а у нас были часть религиозные, часть – светские. Кто-то был женат на нееврейке. Нужно было так ко всем относиться, чтобы было понимание всех людей. А они, когда пришли, сказали: "вы перестанете быть моральными уродами". И это сразу вызвало волну враждебности. И тут началась очень плохая эпоха. До этого у нас не было никакой вражды, все разные люди друг дружку принимали. Был кашрут, мы доставали кошерную еду. И все, кто даже дома ничего этого не делал, все равно понимали какую-то важность. Был Андрей Лифшиц, который потихоньку учил взрослых Торе. И взрослые это очень любили, потому что он был мягкий, умный человек. А тут появились люди совсем другого толка, и сразу же проснулась ответная воинственность у нерелигиозных.
Однажды я пришла на урок Торы для детей, который всегда очень хорошо у нас проходил. Там был такой немного занудный человек Зеэв, который был другом этих Гарбузов. (Может быть, Куравский.) Шел урок, а это был четверг, все как раз пришли забирать своих детей. Всегда родители очень тихо сидели и ждали, пока кончится урок. А тут – приходит мама, берет пальто и очень громко зовет своих детей. Все другие дети вскакивают с мест, начинают носиться. Единственный ребенок, который остался, это Риночка. Она сидела напротив Зеэва и очень внимательно слушала историю про мальчика, который привозил бочки с водой. Начинался шабат, а его отец умер, и он теперь должен был сам возить бочки с водой, и просил солнце подождать, и солнце его ждало, пока он не развез последнюю бочку с водой. Ринка сидела, затаив дыхание. и слушала, а все остальные стулья были перевернуты, все дети прыгали, а родители, как ни в чем не бывало, их одевали. Тогда я сказала Ире Гурвич: "Как же так, ты забираешь своих детей посреди урока?" Она говорит: "Они нам будут говорить, что мы уроды, вот они и получат своих уродов". И мне стало грустно, я подумала, что если до сих пор у меня было какое-то ощущение чуда и того, что мы сможем держаться несмотря ни на что, то теперь наверняка, если эта ситуация не изменится, наш сад так или иначе развалится.
После этого было собрание. И когда все собрались, я потихоньку стала подходить к каждому в коридоре и спрашивать: "Вы хотите, чтобы они были вашим директором?" Сначала мне Оля Йоффе сказала, что не хочет, потом другая женщина: "Я совершенно не хочу, они нам не подходят". Они были очень рады, что я пришла, потому что я тоже религиозная. И они дали мне пирог, но я говорю: "Не давайте мне пирог, я хочу очень важное сейчас сказать, вы меня извините, но это необходимо". Я начала так, обращаясь к ним ко всем: "Как истинно верующий человек, я хочу сказать, что те директоры, которые у нас есть, нам не подходят". И вдруг все молчат и делают вид, что они меня не слышат. Я думаю: "Как же так, они испугались, что все это говорится в лицо…" И тогда я иду к Оле Йоффе и говорю: "Оля, ты согласна со мной?" И она набралась мужества и сказала: "Да, я с тобой полностью согласна". И когда уже она сказала, то другие тоже стали говорить, что согласны. А Гарбузы говорят: "А мы не дадим вам ключи". Я говорю: "Нужно выбрать какого-то другого директора. Что значит – вы не дадите ключей? Если хотите, вы останетесь в этом садике. Тут были раньше и религиозные, и нерелигиозные, и все уживались. Просто вы не можете".
Я так разволновалась, когда мы вышли оттуда, а Ира Гурвич разволновалась и говорит: "Молодец Машка, как ты здорово их выгнала! Теперь мы будем есть свинину, сколько захотим". И мне так стало грустно от этого, что когда я пошла домой, у меня поднялась температура 39, и я заболела.
Э.М. А она потом стала религиозной?
М. А когда я заболела и они остались без меня, то Гарбузы им позвонили и сказали, что будут их директорами, но будут вести себя более мягко. И они, к сожалению, согласились. К сожалению – потому, что настоящего мира так и не получилось. Я болела после этого недели две, потому что очень расстроилась Когда я пришла, Гарбузы снова были директорами, но они обещали никого не обзывать. А те тоже обещали не забирать своих детей с пол-урока.
Вскоре после этого пришли гебешники. Это было так. Я не должна была в тот день дежурить. Но вдруг мне показалось, что дочка Оли Йоффе Дина, такой милый ребенок и очень нежный, что другая женщина на нее кричит. Там была женщина, которая на всех очень кричала вечером. Ведь дети не очень-то идут спать. Она была крикуха. Мне показалось, что в этот день будет она, и она кричит, а Дине Йоффе от этого становится плохо, ее даже тошнит. Эта женщина не ставила им диафильмы. И я вдруг представила себе это настолько явно, что, хотя я не должна была в этот день ехать (у меня на другой день была школа), я все оставила и помчалась в этот садик. Приезжаю – ничего такого нет, все дети довольны, и этой крикливой воспитательницы нету. Я думаю: ну что такое, что за ерунда? Они мне говорят: "Только ты останься ночевать, пожалуйста, а то всем некогда, ты единственный человек, который может переночевать". Всем им надо было спешить домой. "Мы вообще не знали, что делать, а тут как раз ты пришла". Я говорю: "Ладно, но только с утра я должна идти в школу, чтобы с утра быстро кто-то приехал".
С утра, пока все встают, потом приходит Римма Нудлер, которая у нас готовила. Такая большая, с черными бровями и огромными черными волосами. В саду было трое ее детей: старший, Илюша, и близнецы – мальчик и девочка. Потом пришла Женя Кержнер, день начался. Римма готовит, а Женя не очень умела обращаться с детьми, и я остаюсь. И вдруг – звонок в дверь. Стоит какой-то дядька, спрашивает, чья эта квартира. Выходит Римма, она готовила суп (она делала замечательные борщи). У нее в руке была пластмассовая тарелка (мы пользовались пластмассовыми, чтобы дети не разбили). И вдруг он ее толкает, и влетают два гебешника, милиционер и еще какая-то тетка. И в тот момент, когда они влетают, у Риммы эта тарелка падает из рук и начинает крутиться с боку на бок. И я столько себя готовила к тому, что придут гебешники, но тут начала реветь. Потому что эта тарелка стукается о пол, не может остановиться, и у меня от этого слезы на глазах, я начала реветь. И тут меня спасли мои руки. Мои руки, не думая о том, что я в этот момент хочу реветь, сами хватают с полки большую коробку кубиков. Я смотрю на свои руки, как будто они сами знают, что нужно делать. И слышу, как со стороны, свой голос: "Дети, кто может построить самый лучший домик?" Я сама не верю: это все происходит со мной, но как будто бы это не я, я будто где-то там, в стороне, собираюсь разреветься, уже совсем мокрая от слез. А тут я держу в руках эту коробку и спокойным голосом говорю. И начинаю высыпать на пол быстро кубики, прежде, чем я успеваю что-то сообразить.
И маленькие дети сразу начинают собираться, а большие еще в шоке, они стоят и видят, что эти врываются, начинают спрашивать: "Чем вы тут занимаетесь, кто нам будет отвечать?!" Я говорю: "Я не могу с вами, я сейчас с детьми". Они говорят: "Ну-ка пройдемте на кухню". Я говорю им: "Кто-то должен быть с детьми". И я так спокойно это говорю, что они оставляют меня в покое, берут Римму и Женю, забирают на кухню. Берут их допрашивать, а я остаюсь с детьми. Вначале большие дети стоят, а потом, когда они видят, что маленькие начинают строить, садятся в круг. Я потихоньку их всех собираю в круг. И они все начинают строить дома, и большие входят в эту игру. И только потом я поняла, насколько это верно: когда у тебя рушат дом, ты тут же в этот момент начинаешь строить новый маленький дом. Но тогда это просто были мои руки.
Тут появляется один из них и хочет фотографировать детей. И спрашивает: "Где тут Юдя Хасина?" А эта девочка Гарбуз тоже черненькая. И он обращается к ней: "Ну что, Юдя, как зовут твою маму? Наташа?" Та говорит: "Нет". "Ну говори, Юдя, как твою маму зовут?" А это была не Юдя, а Лея Гарбуз.
Э.М. Юдя Хасина – это не дочка Юлиана Хасина?
М. Нет, это дочка Наташи Хасиной, была такая активистка. А им я говорю: "Дети сейчас играют, не отвлекайте их, пожалуйста". А детям я говорю: "Это плохие дяди, с ними нельзя говорить". А они меня спрашивают: "Они плохие?" Я отвечаю: "Да, плохие, но добрые всегда побеждают в конце плохих". И они как-то успокаиваются: мы же читали много сказок и знаем, что добрые всегда побеждают. И еще я им говорю: "Пока я здесь, все будет в порядке". Я время от времени говорю им такую фразу. Потому что я с ними играю, а они нервничают, видя, как эти гебешники себя ведут. А я еще хожу и спиной загораживаю фотоаппарат. Гебешники пытаются фотографировать детей, а я им то спиной, то попкой загораживаю аппарат, чтобы у них это не очень получалось. Но все равно они зовут одного мальчика, показывают ему на алфавит (у нас на стене висел еврейский алфавит) и спрашивают его, показывая на гимел: "Что это за буква?" Он говорит: "Ламед". Я хорошо помню, что этот ребенок путал ламед и гимел. Они срывают этот алфавит со стены, как будто это доказательство чьих-то преступлений. Но я быстро забрала этого ребенка и снова говорю: "Пока я здесь, все будет в порядке". Я думаю: "Откуда эта фраза у меня в голове?" И вспоминаю, что когда мне было 15 лет, я делала спектакль про Шерлока Холмса с детьми из нашего дома, которым было 13 лет. Мы делали "Собаку Баскервилей". Я была Шерлоком Холмсом, который говорил: "Пока я здесь, все будет в порядке".
Я ее сто раз говорила, и она у меня так отпечаталась в голове, что, пока у нас были гебешники, я все время повторяла – "пока я здесь, все будет в порядке". Потом я поняла, что это ко мне прицепилась роль Шерлока Холмса. И как-то нам хорошо было с детьми… А потом Буся сказала всем по-тихому, что мы едим без "нетилат ядаим". Это очень важный момент.
А эта гебешная тетка возмущалась, что столы, которые потом становятся кроватями, это негигиенично, что у нас нарушаются какие-то законы гигиены. А то, что они там орали, вели себя грубо и всех пугали, это нормально! Потом многие дети говорят, что они хотят в туалет, но боятся туда идти, потому что боятся отойти от меня. Я беру двоих на руки, а еще с каждой стороны ко мне двое или трое прицепляются за рукав, и я всю эту вереницу веду в туалет. И тут я вижу – милиционеры, и что милиционеру жутко стыдно, что они делают этот налет. Ему так стыдно, что у него на глазах слезы. И когда я вижу, что у него на глазах слезы, у меня тоже начинают слезы капать. Уже, казалось бы, я совсем успокоилась. И то, что этот милиционер на меня смотрит с сочувствием… У меня какой-то комок к горлу. И только то, что нужно было их всех сажать в туалет, как-то меня отвлекло. А потом дети устали после еды и говорят (а эти все там ходят): "Когда же эти плохие уйдут?" Я говорю: "Вот вы сейчас ляжете, закроете глаза, и они уйдут". А они никак не могут лечь на дневной сон. И я сама думаю: "Что я им за глупости говорю? А если они не уйдут, что я им скажу?!" А дети все очень хорошо ложатся, подтягивают одеяла, закрывают глаза – и тут гебешники уходят.
Но для меня был очень трудный момент потом. Потому что, когда они ушли, надо было пойти позвонить и сказать, что они были. И тут на нас на всех нашел страх – и на меня, и на Римму, и на Женю Кержнер. А Римме, когда она в какой-то момент пробовала что-то им возражать, гебешники сказали: "Еще слово скажешь – мы тебя в тюрьму посадим!" А у нее сын немного занудливый, и когда они ушли, он спросил: "Мама, они обещали тебя посадить в тюрьму, почему они тебя не посадили?"
И никто не хочет идти звонить. И тогда Римма и Женя меня буквально выталкивают, чтобы я шла звонить. Говорят: "Ты тут так смело с детьми играла!" Но когда я вышла за пределы квартиры, мне было по-настоящему страшно. Когда я ехала в лифте, мне казалось, что на любом этаже ко мне сядут эти гебешники и заберут меня. На каком-то этаже двери открылись, но, к счастью, вошли обычные люди. И мне стало легче: хоть какие-то люди со мной вместе едут.
Такой был первый разгон нашего садика. После этого какое-то время ничего не было. А потом Люсику (стоит с ним поговорить) удалось найти и снять очень хороший дом за городом. Они сняли дачу, и было очень хорошо. Там был большой участок с деревьями, по дороге – красивые овраги. И зимой тоже очень приятно было туда ехать. Но ехать туда было очень долго. Я тем временем устроилась работать лаборанткой в школу. Это было трудно, я могла ехать в садик только один раз в неделю. Когда к нам приходили гебешники, я училась в вечерней школе. После этого к директору тоже пришли какие-то странные типы и сказали, что хотят со мной побеседовать. Директор очень испугался и послал меня вместе еще с одной ученицей. Как будто бы он не понял, что они хотят узнать. Он преподавал у нас историю, и между четверок он поставил мне тройки. Он хотел, чтобы у меня были меньше оценки. Но все же он послал меня вместе еще с одной ученицей, чтобы мне было не так тяжело. Но он не хотел брать меня на работу, сказал, что ему страшно и он хочет от меня отделаться. Но он никому не рассказал, что приходили эти типы. А летом, когда были каникулы, он куда-то уехал, и я как раз пришла устраиваться. И поскольку меня все знали, то меня взяли лаборанткой. И я стала работать лаборанткой по химии.
После этого я стала приезжать на эту дачу раз в неделю. А тут уже началась зима. Я очень любила делать спектакли на Хануку, даже больше, чем на Пурим.
Э.М. Это еще до этого было?
М. Да, еще с теми детьми.
Ринка уже была в первом классе, но, так как начались зимние каникулы, она тоже приехала туда. Она очень любила там быть. Там стояло пианино, и Марик Юзефович очень любил на нем играть. И на зимние каникулы я делала с ними Ханука-шпиль. А Миша Клоц играл у нас в савивон. А мы играли в такой спектакль (я как-нибудь потом расскажу), где главным героем был мальчик Йонатан, младший брат Йегуды Маккавея. И после этого у Люсика тоже родился сын, которого так назвали. Потому что Илька играл этого маленького сына, которому снятся разные сны. Он в Хануку засыпает, и оказывается в разных эпохах: в эпоху, когда евреи дерутся с греками, и когда разрушается Храм, и в эпоху, когда статуи разговаривают и зовут мальчика к себе. А он думает, что это его пропавшие братья. И мама говорит ему: "Не иди к ним, это статуи, а у нас только один Бог, и мы в него верим". Появляется там какая-то махашефа, ведьма, которая зовет этого мальчика и говорит, что она ему сейчас погадает. Эту ведьму играла Ринка. А мама опять ему говорит: "Мы не верим звездам и планетам, один Бог над нами". И кончается, что это как Хана и ее семь детей. Этого мальчика зовет император, и он должен ему поклониться, или же он его убьет. И тут он просыпается с плачем, но его мама около него оказывается, горят ханукальные свечи, и она его успокаивает, что ничего не было. Он снова засыпает. И сначала он видит трагическую картину. Буся играла первосвященника, который мечется с кувшинчиком, пока там валятся стены. А стены были из таких больших подушек. Стены на нее падают, а она прячет куда-то кувшинчик. И тут – трагическая музыка, идет человек с ханукией (она, как менора), и по дороге гасит одну за другой свечу, что это развал. А после этого уже Маккавеи собираются в разрушенном Храме. И они не знают, что делать, потому что нашли совсем маленький кувшинчик. Они начинают спорить, что нельзя его зажигать, что народ только расстроится: только они зажгут – он сразу же потухнет. И тут появляется мальчик, которому все это снилось, и говорит, что надо зажигать. Вот такой у нас был спектакль.
И после этого спектакля Клоц и, по-моему, Прайсман мне говорят: "Нужно детям купить елку, Новый год наступает". Я говорю: "Ребята, ну какая елка! У нас единственный еврейский детский сад. Дома делайте что хотите, неужели у нас мало еврейских праздников? Только что у нас была такая отличная Ханука!" – "Дети привыкли, что везде елки, а у нас елки нет, им будет обидно". Я говорю: "Ну пожалуйста, может быть все-таки мы можем обойтись без елки, это же не просто так! Мы же тут посреди этого враждующего мира, у нас есть нечто, что мы должны как-то отстаивать". Они говорят: "Но ведь елка – это международный праздник". – "У нас, - говорю, - в еврейском садике никогда не было елки, давайте не будем". На этом мы расстались.
В следующий раз проходит две недели, прошел новый год, и я получила один свободный день у себя на работе. Я вспомнила, что до того дети очень хотели, чтобы я приехала с ними порисовать. Они говорили: "Мы с тобой только раз в неделю рисуем, ты так мало приезжаешь" (мы рисовали красками). Я решила: ладно, раз у меня есть еще один день, поеду к ним. И когда я вышла из дома, вспомнила, что забыла паспорт. Но я спешу, и тут приходит автобус, на котором надо ехать к метро. Потом я подумала: нехорошо без паспорта, вдруг придут гебешники. Но, с другой стороны, именно когда я забыла паспорт, придут гебешники? Нечего так бояться! Я доезжаю до метро, а в метро у меня было какое-то неприятное чувство. Я думаю: надо вернуться домой, обязательно взять паспорт. Потом говорю себе: если я сейчас вернусь, у меня уже не будет сил к ним поехать, это же такая долгая дорога, около трех часов. Если я сейчас вернусь, то уже останусь дома и никакими силами себя не выгоню. И тогда я решаю: если я подойду и увижу что-то подозрительное, то я сразу вернусь. Потому что без паспорта очень опасно идти. Там среди дач можно как-то сориентироваться, они же ставят свою черную машину поблизости.
И вот я выхожу на станции, иду по этим улицам, а там возле каждой дачи высокие заборы. Все белое, и стоит четыре или пять черных машин. С одной стороны дороги, с другой. То есть ошибиться уже невозможно. Вдруг я себе говорю: а может, это к кому-то на дачу приехали какие-то высокопоставленные люди? Я понимаю, что это не так и мне надо убегать, но мои ноги (как тогда мои руки меня вели) ведут меня абсолютно четко. Я говорю себе: надо убегать! Нужно срочно повернуться и идти обратно на станцию. Но ноги не хотят меня слушаться и ведут к этому дому, идут – и все. И когда я подхожу, я стучу и думаю: ладно, если сейчас увижу за забором что-то подозрительное, но сразу буду убегать. И там была такая женщина Майя, совершенно случайно. Кроме одной, все были неслучайные. Очень мало подходящая к нашему садику. Например, у нас там были уроки английского. И детям сказали сделать флажки. И она велела всем рисовать красный флаг с серпом и молотом. Я прихожу – что такое, дети все рисуют эти красные флаги! "Но нам по английскому так велели". Я говорю: "Нет, они велели делать флажки, можете делать хоть треугольные, какие угодно, и любого цвета". Но это упертая женщина, совсем из другого мира. Или, например, она говорит: "Я придумала хорошую идею. У нас будет два стула: стул для хорошего ребенка и для плохого. И если в этот день кто-то ведет себя плохо, он будет сидеть на этом стуле". Я говорю: "Такие правила для нашего садика совсем не годятся, это не в нашем стиле".
И я подхожу к забору и вижу, что с другой стороны она подбегает. А так получилось, что в тот день обе воспитательницы, которые должны были быть, почему-то не приехали. И она меня спрашивает: "Маша, ты мне купила молока?" Я думаю: она совсем с ума сошла, какое молоко! Я вообще не должна была появляться на этой неделе. У меня свободный день, а тут какое-то молоко. И тут появляется еще какой-то человек за забором, пожилой еврей. Он улыбается и говорит: "А, Маша, как твои дела?" Я думаю: "Ну, слава Богу, если тут такой спокойный дяденька". Я же не всех там знала, иногда они себе находили замену. Наверное, все хорошо. Я спокойно открываю дверь, и, как только я захожу – сразу с двух сторон гебешники появляются! Те же самые гебешники. И один из них говорит: "А вот и наша Маша! Давай паспорт!" А у меня паспорта нет… А этот дядька был подсадной уткой, тоже гебешник, как еврей, который специально делал такие штуки устраивал.
Э.М. Наверное, эта женщина спросила про молоко, чтобы вы ушли?
М. Да, она хотела мне сказать какую-то глупость, чтобы я поняла, что что-то не в порядке. А я решила, что у нее совсем крыша поехала. А я уже там. И было хорошо, что я там, потому что, кроме нее, никого не было. А она совершенно не умела. Итак, я захожу, они говорят мне: "Дай паспорт". Я говорю: "Я его забыла". – "Тогда ты сейчас поедешь с нами". Я говорю: "Я никогда не еду, я иду сейчас быть с детьми". Они уже настолько привыкли, что я все время с детьми, что опять отступили. И я прошла в комнату. Ринка мне говорит со слезами: "Они сказали, что сейчас тебя возьмут". Я говорю: "Ринка, они меня никуда не возьмут, я буду все время с вами". И тут я вспомнила, что у меня в сумке халва. И говорю: "Сейчас все получат по кусочку халвы". Вытаскиваю из сумки халву и думаю: "Как хорошо!" Раздаю всем халву, а Митя Клоц там лежит, и у него слезы на глазах". Я к нему подхожу и говорю: "Бери халву". А он говорит: "Дай лучше меч, я хочу их убить".
Мы сидим, и я слышу, о чем говорят гебешники в соседней комнате. А я не могу выйти и подсказать что-то Майе. Потому что я в такой ситуации, что мне надо помалкивать. Они говорят Майе: "А если кто-то из детей заболеет, ты даже не сможешь вызвать врача. Ты даже не сможешь позвонить родителям". Она говорит: "У нас про каждого ребенка написано, какие у него бывают проблемы, и все телефоны родителей". Они говорят: "Ты все выдумываешь, нету у вас ничего!" – "У нас, - говорит, - есть такая тетрадка". Я кричу из комнаты: "Замолчи!" Они говорят: "Сейчас ты с нами уедешь!" Они все время меня пугают, а Ринка от этого страшно пугается.
Мы записали Хануку на кассету, и они забрали эту кассету. В комнате стоит елка, которую они все-таки купили и повесили на нее воздушные шарики. Я даже чуть-чуть заглядываю. И вижу – Майя стоит с тетрадкой! И я уже не могу, говорю: "Что ты делаешь?" А они такие гады, говорят: "Подойди к нам и дай нам тетрадку сама". А сами начинают ее окружать. И ей так страшно, ведь они окружают ее с такими мордами. Она забирается в угол, прижимая к себе тетрадку. А дети тоже все стараются выглянуть из двери. И я чувствую, что нам нужно быстро куда-то пройти с детьми, чтобы они не перепугались. Я их вывожу, и последнее, что мы видим с этими детьми, – что гебешники настолько ее толкают, что она просто падает на пол, в ужасе бросает в них эту тетрадку и вопит диким голосом. Я понимаю, что надо срочно сделать детям какую-то разрядку, и говорю: "Мы сейчас идем гулять". Мы выходим во двор, потому что для них это слишком тяжело.
Я начинаю их одевать, и тут какой-то гебешник ко мне подходит и говорит: "Бедная девочка!" Илька стоит в колготках, а им там всем переодевают вместо туфель ботинки, шапки и шарфы. "Она стоит босиком на холодном полу! Почему же об этих детях так плохо заботятся?!" Я думаю: только что, когда вы заставили кричать эту женщину дурным голосом, все было прекрасно! Я что-то ему невнятно отвечаю: "Мне нужно, мне велено заниматься этими детьми". – "Ну-ка говори, кто тебе велел!" Я отвечаю: "Ты хочешь знать, кто мне велел? Мне моя совесть велела!" Он отходит расстроенный, ведь он надеялся еще какие-то имена собрать.
Мы выходим во двор, и я говорю: "Мы сейчас будем играть в такую игру: море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Фигура Бабы-Яги, на месте замри!" А они говорят: "Фигура гебешника, на месте замри!" И начинают изображать гебешников. Они их изображают, и им от этого становится легче, страх начинает выходить, когда они играют в "море волнуется – раз". То они гебешника изображают, то какого-то страшного бандита, то просто изображают Бабу-Ягу, то какого змея, всяких отрицательных персонажей. И чем больше они их изображают, тем спокойнее им становится. А я еще хожу и смотрю. Там такая милая женщина преподавала музыку, ее звали Алла-скрипка. Она на скрипке с ними играла очень хорошо. Я боялась, что если она придет, она тут же потеряет свою работу, а для нее это очень важно. Я думаю – как только я ее увижу через забор, я сразу ей махну. Она должна была в тот день прийти, но она заболела и не пришла. А потом мы уже с детьми заходим, когда мы нагулялись во дворе и как-то пришли в себя, а гебешники опять пристают к Майе: "Что это у вас за кастрюли, на которых написано "м"? Почему на одних написано, а на других нет?" Это у нас на мясной посуде было написано. Она вдруг говорит: "Это Маша! Это она сюда столько кастрюль притащила!" И они отстали, и после этого ушли. А эта бедная Майя в таком шоке… Там был такой большой котелок гречневой каши…
Э.М. Они забрали эту тетрадь?
М. Забрали, и многих после этого уволили с работы, и у разных людей были неприятности. А Майя была в таком шоке, что съела всю эту кашу, которая была наварена в этом котле. А мне пришлось им сказать, где я работаю. Мне очень не хотелось, они сами могли это очень легко найти. Но они пристали ко мне: "Или мы тебя сейчас уведем, или ты скажешь, где работаешь". Я говорю: "Я работаю на Ленинском проспекте, в школе, остановка телевизоров". Четко я не сказала. На следующий день я еду на работу, и остановку телевизоров переименовали в другое название – магазин "Спектр". Так что я осталась на работе. Может быть, они и знали. Они не всех пугали, не всех шпыняли. Просто интересно, что на следующий день эту остановку переименовали.
И только в конце Буська ко мне подходит, она ведь очень умненькая, и говорит: "Ну что, теперь у нас этого дома тоже не будет?". И вскоре нас выгнали с этой дачи, пришлось тоже уезжать. После этого сады были только на квартирах у разных людей. Сначала у Риммы Нудлер, потом немного у Гурвичей, потом были у Сориных. Началась новая эпоха – "маханаимская". Уже не было таких садиков, спокойного житья уже не было. Хотя еще какое-то время у Риммы… Но когда на частной квартире, где кто-то живет, то это намного сложнее, чем когда есть съемная квартира.